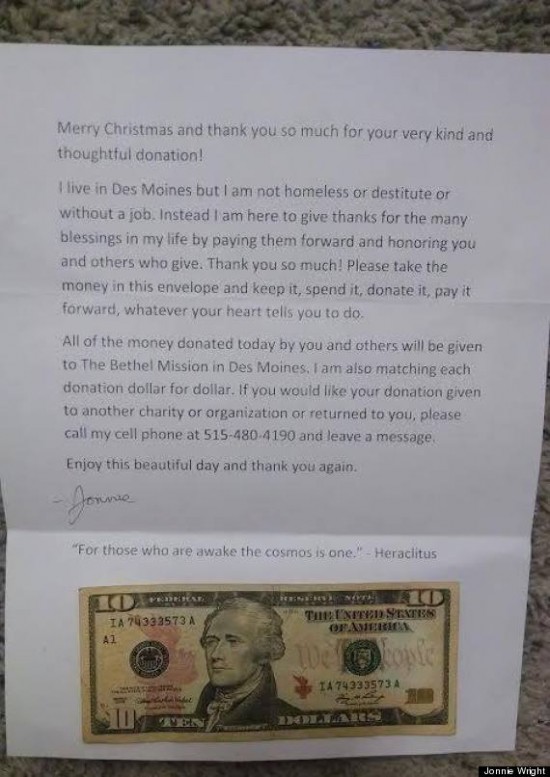Μία ελαιογραφία σε καμβά του μεγάλου Ρώσου ζωγράφου Μιχαήλ Σοκόλοβ.Ο Σοκόλοβ γεννήθηκε το 1885 στο Γιαροσλαβ και πέθανε στη Μόσχα το 1947.Θεωρείται ένας από τους μεγάλους ζωγράφους,ιδιαίτερα της δεκαετίας του '30 και του '40.Ήταν άνθρωπος με πνευματικές ανησυχίες και ελεύθερο πνεύμα σε μια περίοδο που το κομμουνιστικό καθεστώς απαγόρευε την έκφραση χριστιανικών και πολιτικο-ιδεολογικών εκφράσεων και αυτό το πλήρωσε πολύ ακριβά αφού συνελλήφθη,δικάστηκε και καταδικάσθηκε με ποινή επτά ετών και οδηγήθηκε σε γκουλάγκ της Σιβηρίας όπου παρέμεινε μέχρι την αποφυλάκιση του το 1943 για λόγους υγείας. Κατα τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο στρατόπεδο δημιούργησε παρα πολλά μικρά έργα πάνω σε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του,όπως πχ κουτιά απο τσιγάρα και σπιρτόκουτα.Μετα την αποφυλάκιση του και μέχρι το θάνατο του από καρκίνο το 1947,συνέχισε να ζωγραφίζει με σημαντικότερα έργα του να είναι μια σειρά από θέματα νεκρών πτηνών που συμβολίζουν την αντίδραση του στην απαγόρευση ελευθερίας έκφρασης.Είναι έργα πολιτικά και θα λέγαμε σήμερα με ιστορική σημασία που κραυγάζουν για το θάνατο της ελευθερίας απο τα τυρανικά καθεστώτα.
Ένα τέτοιο έργο και το παραπάνω που βλέπετε με ένα παραδείσιο πτηνό που κείτεται άψυχο πάνω στο γαλάζιο μανδύα που συμβολίζει την πνευματικότητα και ίσως τον ουρανό,αρχέτυπικές εικόνες έτσι κι αλλιώς.Τα χρώματα του πουλιού κυριαρχούν κι αυτά στο βλέμμα του θεατή με το κοκκινο να μας θυμίζει το αίμα των Ανθρώπων,το κίτρινο τη σκλαβιά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το μαύρο το πένθος...δίπλα σε όλο αυτό το σκηνικό στέκεται ένα πήλινο πιθάρι σαν να παρατηρεί τα γεγονότα με μια απάθεια....όπου το άδειο περιεχόμενο του συμβολίζει την πνευματική κενότητα των ανθρώπων της εξουσίας και το υλικο,ο πηλός,συμβολίζει την εύθραστη Ανθρώπινη φύση τους και την ματαιοδοξία.
.
Παρακάτω ακολουθεί ένα κείμενο απο τον ιστότοπο www.artpanorama.su που αναφέρετε γενικότερα στη ζωή και το έργο του σημαντικού ζωγράφου:
В живописи Михаила Ксенофонтовича Соколова - и во всем его творчестве - очень интересно наблюдать, как сквозь виртуозную интерпретацию художественных форм прошлого «прорастает», отрекаясь от маэстрии, трагическая, обретшая необычайную живописную мудрость «прямая речь».
Это был один из самых плодотворных и честных путей в искусстве 1920-х-1930-х годов: через «поиск утраченного времени», поиск себя в ушедших эпохах к глубокому и выстраданному высказыванию о своем веке.
Проблему интерпретации великих стилей прошлого в ситуации завоеванной авангардом свободы от академизма решал не один М.К.Соколов, но также, например, художники группы «Маковец» или армянские живописцы из Тифлиса (А.Бажбеук-Меликян, А.Гарибджанян).
Совсем не похоже, они по-разному подходили к задаче. Объединяет их то, что своим искусством они явили альтернативу как академизированному, так и фамильярному обращению к классике – тот и другой подход тоже заявили о себе в поставангардном искусстве...(продолжение статьи ниже)
...Начиная с 1920-х годов многие, говоря о Соколове, отмечали, что в своих разнообразных увлечениях, в своей «заряженности» другими художниками он «внутренне целен и верен себе, постоянен в своем бродяжничестве, в других ищет себя».
Эти слова из доклада Д.С.Недовича были сказаны в 1929 году, когда в ГАХНе состоялось обсуждение творчества М.К.Соколова, в котором приняли участие и другие крупные искусствоведы – Н. М. Тарабукин и А.В.Бакушинский.
Французская живописная традиция всегда оставалась основой соколовского мастерства. Но от артистизма своих ранних работ, так восхищавшего современников и еще более – сегодняшних зрителей, художник впоследствии пришел к иному пониманию искусства: «… от всякого блеска и виртуозности меня подташнивает. Надо дыхание и больше ничего».
Неофициальная живопись 1930-х – 1940-х годов понимала пространство как среду, заряженную лирической энергией. Оно вбирает в себя и преображает все живописные средства: цвет, свет, форму. Импрессионизм, растворивший предмет в сияющей живописной массе; кубизм, свободный от прямой перспективы, секущий на геометрические фрагменты и предметы, и фон; кубофутуризм, ввергающий в движение эту субстанцию из граней и углов - подготовили восприятие пространства как единой динамической стихии.
В относительно ранних живописных произведениях Соколова свойства пространства как насыщенной вязкой среды подчеркнуты, осознаны как художественный прием. В «Воинах» (конец 1920-х годов, ГТГ) доминанта черного, в котором светятся, мерцают серые, розовые, красные и желтые мазки, создает ощущение давно ушедших времен, а слой золотистого лака служит знаком «музейного колорита». Под покровом лака, внутри густого месива мерцающих мазков - «старинная битва живет». Всадники, тонущие в вязкой среде картины, словно погружены в свое баснословное рыцарское время. Это создает вненаходимость - важнейшее свойство интерпретации, необходимое для подлинного ощущения отдаленной эпохи, исключающее фамильярный «эффект присутствия».
Соколов обладал неким «абсолютным слухом» цветовой гармонии. Изысканность колорита его натюрмортов, пейзажей, женских портретов сопоставима только со свободой и непринужденной грацией линий его графики. В некоторых работах, где избранный мотив дает к тому повод, эта изысканность оборачивается своего рода «дендизмом» - например в серии натюрмортов с цилиндрами, в портретах дам в вуалях, с веерами.
И в то же время М. Соколов умел отрекаясь от внешней маэстрии, создавать непревзойденную гармонию «грязного» цвета едва ли не самую совершенную в живописи конца 1920-х - 1930-х годов, создававшейся на той стадии развития колорита, когда, говоря словами Федорова-Давыдова, «он уже перестает бояться “грязи“ и серо-черных цветов.
В результате живопись обнаруживает свою «сырьевую» природу, свою связь с красочными смесями на палитре. Собственно говоря, прямое происхождение из красок палитры обыгрывалось уже в искусстве предшествующего периода, например «Бубновым валетом», но тогда цвет тяготел к локальным тюбиковым краскам, что отвечало игровому уподоблению цветовых пятен картины окрашенным поверхностям самого предмета (вплоть до их прямого «отождествления» в коллаже).
Теперь же, когда пространство растворило в себе предметы, вобрало их свойства и цвета, смешало без какой-либо иерархии, - цвет «уподобился» красочному веществу, которое образуется на палитре после того, как кисть смешала на ней разные пигменты. Но в картине «фуза» непременно должна быть преображена, переплавлена в живопись, и такое преображение под силу только художникам высочайшей культуры. Соколов, несомненно, к ним принадлежал.
Средствами «грязной» живописи в пейзажах 19З0-× годов он создал полный трагического напряжения образ города. «Широкую разлапицу бульваров» писали тогда многие художники. Этот мотив, очень московский, мог в то же время быть живым образом Парижа: Люксембургского сада, Булонского леса, Больших бульваров - одним словом, Парижа импрессионистов, чья традиция в этот период становится нужной и востребованной. Так написаны, например, бульвары и зоопарки А.Ф.Софроновой с их чудесными фазанами и гусями, где прозрачная светоносная живопись создает образ парящего райского сада. Промозглые, сотканные из дождя бульвары М. Соколова с «запутавшимся» в черных безлиственных ветвях пространством, которое лишь брезжит вдали теплым жемчужным свечением, исполненным обещанием простора, дают иное звучание этого живописного мотива: мертвый воздух сырого, холодного города, где люди - лишь смутные, дрожащие отблески на мокрой мостовой.
Понимание пространства как сплошной движущейся стихии, растворившей в себе отдельные предметы, определило также характер соколовских натюрмортов. Он не случайно любил писать рыб, а позднее птиц: это существа, всецело принадлежащие одной среде - воде или воздуху; они не знают границы между «водой, которая под твердью» и «водой, которая над твердью». В единой серебристой среде соколовских натюрмортов с кетой часто тают, делаются бесплотными все предметы и формы: хлеб, прозрачные графины. Все, кроме самой рыбы, которая словно становится персонификацией стихии, пространственного вещества картины.
Вершиной искусства М.К.Соколова представляются его поздние работы – цикл сибирских лагерный миниатюр конца 1930-х – начала 1940-х годов, созданных ограниченными до предела изобразительными средствами (они выполнены на жалких клочках бумаги, иногда с помощью пигмента или побелки, соскобленных со стены). В этих миниатюрах, как в фокусе, соединились живопись и графика, слились традиция и судьба. Скудость средств обнажала суть – пространство как основную форму представления мира. Прямоугольники размером со спичечную коробку обладают величием и самоценностью классической картины. (Недаром Г .В.Жидков говорил о них: «В конверте оказалась целая картинная галерея») так эти работы воспринимаются и вблизи, и особенно на расстоянии (покуда видит глаз), ибо заключают в себе большое художественное пространство - не фрагмент реальности, но образ мира. Говоря словами Мандельштама «Это язык пространства, сжатого до точки». Часто в миниатюрах М. Соколова вообще нет предметного наполнения, скажем каких-нибудь деревьев или кустов, - один простор, «равнины дышащее чудо», и только смутной галочкой, «крестиком на ткани» мерещится олень или охотник. Ни вех линейной перспективы, ни градаций цветовой перспективы, лишь одним тоном серого мела созданные земля и небо да желтоватым проблеском цвета бумаги – бесконечная даль. Иногда эти миниатюры кажутся «художественными воспоминаниями» о полотнах Ватто или Коро, Яна ван Гойена или импрессионистов: сама среда их, воздух, не материализуясь в цитатные реалии, а лишь намекая на них, становятся метафорой чужих картин, их смутным образом, подернутым дымкой.
Последним живописным циклом М. Соколова, написанным в 1943-1947 годах уже после сибирских миниатюр, оказалась большая серия натюрмортов с мертвыми птицами. В этом образе легко читается символ убитой свободы. Птица стала «лирическим героем» как метономия воздуха, как сгусток пространства, которое – первооснова соколовского творчества. Ее мертвые крылья еще «насыщены» полетом и «помнят» небо, как «помнят» океан разрезанные соколовские рыбы. Но он мертва и замкнута в маленький прямоугольник картины. Соколов разыгрывает разные цветовые вариации темы – от нежнейших радуг оперенья, тревожно светящихся на темном или красном фоне, через тусклые, «грязные» гаммы – до непроницаемо черной птичьей тушки. Цикл «мертвых птиц» говорит о времени то, что редко находило выражение в тогдашней живописи; смысл работ совсем иной, чем у, казалось бы, близких по предмету барственных натюрмортов П. Кончаловского с битой птицей и дичью.
Мир зрелой и поздней живописи М. Соколова можно определить как самоуглубляющееся, сгущенное пространство внутренней свободы – в противоположность экспансивному властно вторгающемуся во внешний мир пространству авангарда, в контексте которого проходило творческое становление художника.